Судовой журнал
Иллюстрация: Майк Ч
Согласно исследованию Института проблем правоприменения (2012), основной источник кадров для судейского корпуса в современной России – это аппарат судов. 29% судей рекрутируются из числа помощников и секретарей, из них 62% получили юридическое образование заочно. Среди женщин-судей доля выходцев из аппарата выше, чем среди мужчин, и составляет 42%. Судьями они становятся в среднем в 31 год – гораздо раньше, чем те, кто приходит в судебную систему извне.
«Главным источником изменений в судейском корпусе в настоящее время являются сравнительно молодые сотрудницы аппарата судов, которые привносят в профессию нормы бюрократического свойства, связанные более с исполнительностью, дисциплиной и следованием букве закона, нежели с независимостью и справедливостью», — делают вывод авторы монографии.
Егор Сковорода записал монолог студентки юридического вуза, которая все лето проработала секретарем судебного заседания в районном суде — девушка просила не указывать ее имени и местоположения суда, потому что не хочет, чтоб у «ее судьи» возникли какие-нибудь проблемы из-за публикации. Рассказ сопровождается отрывками из дневниковых записей, которые девушка-секретарь вела этим летом.
«Людей в суде не хватает»
У нас был один из самых маленьких залов в суде, там не было даже комнаты помощника, потому что вместо нее мы устроили маленькую столовую с холодильником. Помощник сидела прямо рядом с клеткой, только была отделена такой непрозрачной штукой. В комнате у судьи стоит стол, за которым они периодически с прокурором пили чай, есть туалет и раковина. Там же стоял диван, на котором она периодически спала — не так уж и редко бывало, что судья ночевала в суде.
На работе у меня было три состояния — либо я нормально веду протокол, либо рыдаю, либо сплю. Спать всегда времени не было, поэтому, когда судья начинала оглашать документы и материалы дела, я тихо закрывала глаза, все равно она потом скажет номера листов. Один раз, правда, спалилась, это страшно было: просыпаюсь, а надо мной представитель изолятора смеётся. Рыдала часто, потому что всех было очень жалко.

Главная функция секретаря — вести протокол судебного заседания. Помимо этого он делает все, что его попросят — все зависит от того, как ты с помощником судьи договоришься о распределении обязанностей. Первое время я кроме протокола не делала вообще ничего. Обычно секретарь еще извещает людей о дате следующего судебного заседания, выписывает повестки тем, кто был, пишет телеграммы или звонит кому-то, если надо его вызвать. Выписывает «конвоирки» — бумаги о том, когда и какого подсудимого нам нужно доставить в суд. Пару раз по первому времени я забывала выписать конвоирки на подсудимого, и его не привозили. Или выписывала не на ту дату.
Есть «аншлаг» — это расписание всех дел, которые мы сегодня слушаем. Судья себе все записывает в дневничок непонятным почерком, а мне, в принципе, надо это расписание распечатывать красиво и вешать на дверь зала. Все так и делали, а мы нет – потому что у нас не было времени совсем. В итоге я по четвергам у судьи выписывала то, что мы назначили на следующую неделю, и от руки составляла план, который потом еще и прокурор у меня копировал.
Помощник судьи отвечает за делопроизводство: подшивает дела, ходит в канцелярию за новыми делами. У нас еще помощник писал шаблоны постановлений для судьи, чтобы судья туда вписывала только мотивировочную часть. Чтобы стать помощником судьи, надо несколько лет проработать секретарем и иметь уже законченное образование. Но людей в суде не хватает. У нас помощник как раз ушла к другому судье, поэтому последние пару недель своей работы я была и помощником, и секретарем одновременно. Мне даже судья разрешила подписываться ее помощником.
Секретарям платят около 11 тысяч рублей, сколько платят помощникам, я не знаю, но не сильно больше — там для персонала все зарплаты в районе 20 тысяч. Сколько платят судьям, я точно не знаю: моя как-то раз упоминала, что ей хватает зарплаты в 50 тысяч, но я думаю, что у нее больше. Еще все время меняется — то дают судьям квартиры, то не дают. Моей вот в итоге не дали, например, она сама брала ипотеку.
В судах есть специальная программа, которая называется Государственная автоматизированная система «Правосудие», туда забиваются все данные по делу и его движение. Именно из этого ГАСа потом берется расписание заседаний, которое вы видите на сайте суда. Каждый раз, когда заседание закончилось, нужно сразу забить в ГАС, на какое время мы его отложили и по какой причине. Когда дело заканчивается, в ней нужно делать специальные статкарты.
ГАС «Правосудие» – это ужасная абсолютно программа. Там вообще ничего не понятно, и я, пока в ней разбиралась, расплакалась раз пять.
29 мая Допрашиваем свидетеля:
— Судимости есть?
— Вам что, все перечислять?
— Как давно вы знаете обвиняемого?
— И за всё это время у вас не было конфликтов?
— Ну, так получалось: то я сижу, то он сидит.
30 мая Сегодня отложили все заседания, потому что не пришел никто. Только с утра, пока я спала одна в зале, пришла баба (приводом, с приставом!), сказала типа «ой, я не хочу» и ушла, а я слишком долго просыпалась.
«Подшивать все эти дела —
это просто ужас»
Я пришла в суд, вообще ничего не зная еще. Мне сказали: садись и работай. О ведении протокола я узнавала из протоколов предыдущих секретарей, причем те вещи, которые мне казались неважными, я просто оттуда вырезала — чего писать по пять раз все одно и то же? Уже по ходу дела судья подходила ко мне, говорила, вот это исправь, то перепиши и так далее. Но такого, чтобы кто-то сел и объяснил, что мне надо делать, просто не было.
Я пыталась протокол с помощью диктофона вести, но оказалось, что с ним все в два раза дольше. С одной стороны, можно во время заседания ничего не делать и заниматься своими делами, а с другой, потом приходится долго расшифровывать эту плохую запись, на которой слышно, как они двигают стулья и шуршат бумажками. Так что я отказалась от диктофонных записей и писала все сама — быстро записываю по полслова, а потом уже расшифровываю. Многие формулировки, которые в суде все время повторяют, можно писать просто условными обозначениями.
И все равно приходилось много и быстро писать со слуха. Был один подсудимый, который сначала три раза не приходил на заседания, потому что ему сломали челюсть, и он ее лечил, а потом все-таки пришел, но со своей челюстью очень плохо говорил – я так и не смогла разобрать, где он работает, и написала какую-то фирму от балды. Если я совсем не успевала записать, я просила их говорить помедленней.
На заседаниях обычно не говорят ничего важного, что надо записывать. Бывает, приходит адвокат и в течение двух часов несет то, что можно уложить в десять минут. А потом жалуется, что мы слишком долго рассматриваем его дело. Или приходят и зачем-то начинают свои ходатайства оглашать – зачем, я не понимаю? Они же распечатаны, судья может пойти и прочитать, это гораздо быстрее происходит. Я же их в протоколе не записываю. Я пишу: «Адвокат оглашает свое ходатайство». Точка. А оно уж потом приобщается к материалам дела.

После вынесения приговора я должна была сшивать все протоколы и материалы. Подшивать все эти дела — это просто ужас. Белыми нитками я шила дела, много дел: все протоколы, повестки, ходатайства, справки – все это надо подшить в дело перед тем, как сдавать в канцелярию. Если кто-то обжалует приговор, то дело идет в горсуд – и его надо очень быстро и красиво подшить по всем правилам. А если не обжалует, то, в принципе, на это дело уже никто никогда не посмотрит, его сложат в архив, оно полежит пять лет, и потом его сожгут. Дикий перевод бумаги.
3 июня Опоздала на работу на 20 минут, съела все конфеты, пофоткалась в клетке, до сих пор никого, кроме меня, тут нет. … Читаю письмо из ФСБ про одного обвиняемого: «… проживает в посёлке Кирпичное, месторасположение которого в данный момент устанавливается».
И еще: «На момент составления данного протокола подозреваемый упал со стула и находится на полу».
4 июня Кончились конфеты, невозможно работать в таких условиях. Подумываю съесть пирожок судьи, пока она пишет приговор. Она же съела мой кекс на выходных!
По идее, протокол должен вручаться в течение десяти дней после заседания, но по факту протоколы вручаются после окончания всего судебного процесса. Можно и раньше их истребовать, но судья не обязана их предоставлять, она может сказать, что протоколы не готовы – и всё. Они выдаются по мере изготовления. Но вообще я старалась все сразу отписывать.
В большинстве случаев на заседаниях у нас были свои адвокаты, ну, государственные, которые приходят к нам по пять раз в день и которых мы все знаем. И поэтому можно было опускать некоторые формальности… Я в протоколе пишу: «Судья опрашивает всех участников о возможности перехода к судебным прениям. Прокурор: “Я не возражаю”. Подсудимый: “Я не возражаю”» — и так далее. А на самом деле:
— Ну чего, преемся?
— Преемся!
— Ну, поехали.
«Заключенные все время жалуются, ходатайства пишут»
Первое время я приходила ровно к девяти часам, но это оказалось бессмысленно, потому что моя судья приходила обычно к десяти. Только если вдруг какое-то суперважное дело было назначено на 10:30, тогда ладно, она могла быть на месте в 9:40.
В день обычно было по 5-6 заседаний, иногда больше. Перед тем, как судья ушла в отпуск до середины сентября, мы отложили все дела — причем там оказалось столько дел, что график сразу оказался забит до середины октября. А когда судья ушла в отпуск, она еще неделю каждый день приходила на работу раньше меня и отписывала все постановления, которые не успела сделать за все это время.

Моей судье было лет сорок – она прекрасная, но очень заработавшаяся женщина. У нее, по-моему, было больше всех работы в этом суде. Был только один раз, когда она ушла из суда раньше меня, а я раньше шести никогда не уходила. Всегда была куча недоделанных дел — за те три месяца, что я там работала, у нас одновременно в производстве были 70 уголовных дел и 130 материалов. Это те, что мы рассматривали в текущем режиме, некоторые дела еще с прошлого года тянулись.
Нам постоянно приходили материалы по всяким жалобам, материалы из уголовной инспекции — одному надо продлить испытательный срок, другого взять под стражу. Заключенные все время жалуются, ходатайства пишут.
Если заключенный жалобу просто для того, чтобы подольше посидеть в СИЗО, то заседание обычно выглядит так: его привозят, оглашают ходатайство, прокурор его не поддерживает, заключенный поддерживает. Может при этом начать жаловаться на свою жизнь, может не начать, — это отношения к делу, по словам судьи, никакого не имеет. И потом судья уходит на постановление или запрашивает какие-то новые документы, если они нужны.
— Ну чего он, нормальный мальчик? Давайте условку дадим?
— Вы с ума сошли? Лицо его видели? Это же убийца натурально.
Судья: «Ну так условный или нет?». Адвокат: «Нет, ну давайте он всё-таки немножко посидит, подумает».
9 июня Думала, что единственное, на что я сегодня способна, — это шить папочки, но вот уже десять минут не могу попасть ниткой в иголку. В общем, мы с судьёй тупим, потому что девятый день без выходных, а остальные за компанию. У нас тут, тем временем, посадили следака за взятку.
11 июня Сегодня судья на приговоре, и все заседания мы откладываем, а когда на одно пришло 16 человек потерпевших, было так.
Пока судья на приговоре, я могу воровать её абрикосы, а она не может сказать мне, что я ****** [окончательно потеряла стыд. — МЗ]. Я хочу домой, пожалуйста.
Самое ужасное — это если человек, например, хочет по УДО. Потому что приходит представитель изолятора с его личным делом и начинает оглашать все справки о поощрениях или взысканиях, все его характеристики, всю эту фигню, которую я записываю, это был ужас.
У нас был один осужденный, который писал жалобы, не переставая. Он обжаловал вообще все постановления, даже те, которые были в его пользу. Однажды по его жалобам у нас было два заседания в день. И вот он потом честно написал судье письмо, которое попросил приобщить к делу. Там он писал судье: «Вы прекрасная женщина, я понимаю, что вы не можете мои жалобы удовлетворить, но поскольку я хочу досидеть в СИЗО до конца срока, я вам их пишу, извините, что отнимаю у вас время».
Несколько раз в месяц у судьи бывает дежурство, когда она рассматривает не только текущие дела, но и всякие аресты или продления арестов. Иногда дежурство выпадает на выходные, но на выходных только аресты и депортации. Обычно на дежурство нам приносили дел по пять арестов. На депортацию привозили всяких таджиков и узбеков, которые нарушили миграционное законодательство. Был один очень смешной чувак, который приехал из Молдовы, он сказал, что в России пошел служить в церковь и так заслужился, что забыл уехать. Пришлось его выслать.
Раньше шести-семи я с работы не выходила. Один раз ушла после одиннадцати. Причем поскольку я поняла, что уже сама никак не доеду до дома, то обратно я ехала на машине с двумя операми и чуваком, которого мы арестовали. Они сначала меня до дома добросили, а потом и его отвезли. Причем всю дорогу арестованный с опером спорили про Коломойского и бандеровцев. А на следующий день следователь, которая держала нас до вечера на работе, притащила в качестве извинения огромную корзину фруктов. Судья бегала за ней с этой корзиной по коридору, пытаясь вернуть, но ничего не вышло, и корзина осталась у нас. Не сказать, чтобы кто-то расстроился.
Еще в первые дни моей работы судье пришла бумажка о том, что все подарки работники суда должны с товарным чеком относить в специальную комиссию, которая будет рассматривать этот подарок и высчитывать, можно его было дарить судье или нет. Поэтому каждый раз, когда кто-то пытался принести свою шоколадку, судье приходилось бегать и возвращать ее. Был у нас подсудимый, которому мы дали не очень много, и его бабушка в благодарность притащила коробку конфет. Судья ей тоже кричала «Не надо! Не смейте», но та в итоге конфеты все равно оставила, и я их съела.

«Было классно ездить в психушку»
Судьи, прокуроры, адвокаты — все друг друга знают. У нас есть несколько прокуроров на суд, и они сидят в одном и том же кабинете и рассматривают все дела вместе с судьей. Мы с нашим прокурором, очень тихой и интеллигентной женщиной, все время пили чай, и тоже советовались, что дать подсудимому.
Следователи обычно приходили разные. Но там у нас есть замечательный следователь, очень милая женщина, молодая и трепетная, тоже, видимо, всех очень боится. Но если она приходит, то сразу понятно, что речь об убийстве. Почему-то она занималась только убийствами. Постоянно извинялась перед родственниками арестованных. Очень вежливая женщина.
17 июня Вместо книжек и твиттера теперь читаю материалы дел (сегодня было про то, как мужик от страха убил гея). Первое, наверное, дело, где мне хочется, чтобы человек сел.
20 июня Читала сегодня материалы дела, в котором тёлку сокамерницы ******* [жестоко били. — МЗ] мокрым полотенцем, завязанным в узел, чтобы она дала явку с повинной.
26 июня Люблю, когда менты в своих бумажках пишут «предложил встретиться с целью погулять и попить пиво», у меня тоже так бывает. Еще не могу не вспомнить строчку из вчерашней истории болезни одного психа: «рассуждал о роли наркотиков в жизни общества и человека».
30 июня Вдруг узнала, что адвокат, который с нами сидит сейчас, защищал одного из убийц Качаравы.
Конвоиры, которые доставляют подсудимых, обычно очень угрюмые люди. Я как-то спустилась в их подвал, там довольно страшно: две комнатки, в одной стоит телевизор, дальше приемная конвоирки, дальше такое помещение с большими железными дверьми, на них круглый замок, который нужно крутить. Там все курят, очень темно и душно. Конвоиры все время играли в телефон.
Приставы более веселые. У нас был один пристав, который все время рассказывал какие-то упоительные истории: как он пишет на досуге эстонские поговорки и японские сказки, причем эстонские поговорки были в стиле: «Е-если ме-едленно ты бежи-и-ишь, то за-айца ты не поймаешь».
Было классно ездить в психушку – там у нас были выездные заседания. Там ведь раз в полгода главный врач должен выходить с представлением о продлении принудительного лечения или об изменении режима на более мягкий. Обычно все эти дела привозят к нам в суд, мы извещаем больного, он обычно пишет, что не хочет в этом участвовать, администрация тоже ссылается на занятость, и мы все продлеваем без них. Но бывают такие больные, которым приятно, когда к ним приезжает судья. Поэтому накануне мы ищем адвоката с автомобилем, который нас туда отвезет, и с ним приезжаем в больницу.
Больничка очень милая, там какой-то садик, кошечка бегает, на стенах висят рисунки больных – я понимаю, что им там, наверное, не очень хорошо живется, но по виду больницы этого не понять. На самом деле, это очень страшно: у нас там была больница для особо опасных психов, там убийца на убийце. Было страшно находиться рядом с этими людьми, потому что не охраняет тебя от них никто: там сидели адвокат, прокурор, судья, я, представитель муниципального образования. Больного приводит к нам просто врач, обычно тетенька или юный мальчик.
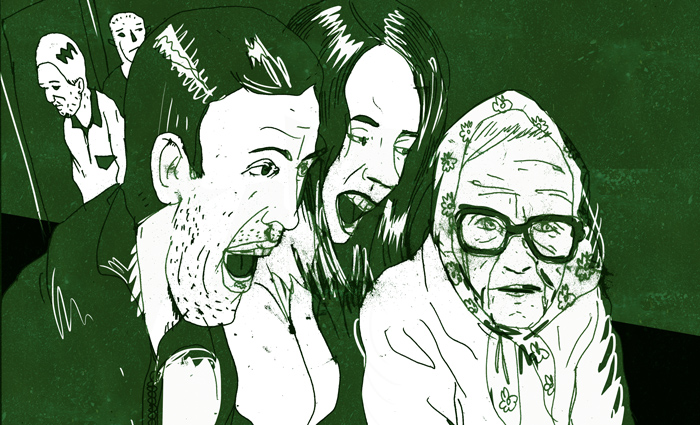
Когда мы приезжаем, все больные говорят: «Да, пожалуйста, я согласен с тем, что мне продлевают срок лечения». Зачем мы ехали? Они никогда не протестуют. Абсолютно апатичные.
Всегда выносили то решение, о котором просили врачи. Раз главный врач написал, значит, надо. Прокурор у нас каждый раз вставал и говорил: «Я не в компетенции спорить с заключением комиссии и поддерживаю представление главного врача».
Это чем-то похоже на ситуацию с заключенными, которые пытаются выйти по УДО или изменить режим содержания, потому что все зависит от администрации: напишет, что у тебя были там поощрения, то мы тебя отпустим, если не напишет, не отпустим.
3 июля Думаю заявить самоотвод, так как вышла из зала суда, столкнулась с подсудимым на 14:00 и заплакала, потому что я его боюсь.
4 июля Допрашиваем старушку 1926-го года рождения; как сложно, вы бы знали, одновременно писать и не смеяться.
— Потерпевшая была мертва или жива?
— Не знаю.
— Вы её трогали?
— Нет, я не трогаю мёртвых.
Удивительное превращение: бабка глухая, и мы всем судом на неё орали, а у следователя она из соседней комнаты услышала звук падения тела.
— Расскажите, что вы знаете о произошедшем?
— Утром я встала, пошла на кухню попить воды и вдруг ничего не поняла.
— Какие у подсудимого были отношения с дочерью?
— Он всегда привозил ей подарки: велосипеды, водку…
Открыла материалы дела и сразу же увидела фотографию трупа голой женщины, мог ли этот день стать ещё лучше.
«Судья верит бумажкам, которые пишет следователь»
Состязательности во время заседаний особой нет. В принципе, если дело дошло до суда, то адвокат уже борется за минимальное возможное наказание, а не за оправдательный приговор, потому что их вообще не существует в природе, про них только в книжках пишут. Кстати, мне почему-то кажется, что для большинства тех, кого мы судили, тюрьма — это не очень большая трагедия. По крайней мере, они не очень сильно протестуют. Или, может быть, они уже знают, что это бесполезно.
Время, на которое судья уходила писать приговор, зависело от объема дела и от того, нужно ли нам что-то еще важное рассматривать после этого. Потому что если нет важных дел, то можно уйти на приговор подольше и там посидеть, попить чаю, отписать какие-то протоколы и постановления по другим делам.
Естественно, никакой особо судебной тайны у нас тоже не было. Мы запирали дверь, а потом в эту дверь стучались все судьи: «Давайте я к вам чаю зайду попить». Они там действительно совещались: сидели, открывали законы и думали, сколько дать человеку. А у него рецидив там? А что у нас с рецидивом. Высчитывали, что нужно сделать. Им реально важно, чтобы по закону срок был назначен, потому что дело пойдет в городской суд и, если что не так, тот будет на них ругаться.
Проблема в том, что судья очень сильно верит этим бумажкам, которые пишет следователь. Мне кажется, она сама понимает, что там может быть не все правдой. Но она все равно им верит и всегда принимает их сторону все время. Судьи верят следователям, поэтому даже начала думать, что проблема у нас не столько в правосудии, сколько в следователях, которые, в отличие от судей, точно знают, где и как они врут.
У нас как-то зашел разговор, что вот в таком-то отделении все время клепают дела по статье 228 — разговор между прокурором и судьей, я была рядом, они меня не очень стеснялись. Это после заседания в подсобке, когда они чай пили.

То есть всем известно, что они клепают. Но потом приходит подсудимый и говорит, что он со всем согласен и хочет пойти в особом порядке. Однажды мы продлевали арест одному из оперативных работников, а еще двоих вызывали из СИЗО как свидетелей — они там обвинялись в превышении должностных полномочий и грабеже.
11 июля Видели бы вы лица подсудимых, когда мы говорим им, что опера, вызванные в качестве свидетелей, не явились, потому что содержатся в СИЗО!
Послушала сегодня, как судью всё бесит, и этим заработала себе лишний час сна в понедельник.
14 июля Адвокат перед заседанием уже десять минут причитает, ругается на амнистию и хочет, чтобы её подзащитного посадили. И она, в общем, права, потому что там чувак задавил девочку и за два года выплатил семье только 7 тысяч рублей компенсации.
17 июля Уняня, привезли опера на продление ареста.
Если подсудимый не признает свою вину, то судья ему обычно не очень-то верит. Он может кричать, что ему подкинули — но вот у судьи есть протокол изъятия наркотиков, в суд приходят всякие понятые, которые рассказывают, что видели, как изымали. Протокол есть, понятые есть, всё.
Однажды к нам пришел давать показания понятой, который очень долго рассказывал, как все было, и кричал, что мы его запутали и вообще. Из его показаний следовало, что в ходе обыска присутствовал не тот мент, который записан в протоколе, а некий оперативный сотрудник в штатском. При этом участковый, указанный в протоколе, в суде тоже был и утверждал, что присутствовал при обыске. Но когда его спрашивали, что он делал и что изымал, он вообще ничего не мог ответить — там весь протокол допроса его состоит из фраз типа «не помню». И вот тот понятой сказал, что человека в штатском, который и проводил обыск, он сейчас видел сейчас в коридоре суда. И мы привели оперативников, которые у нас как раз арестованы были — понятой одного из них опознал. Судья спрашивает: «Точно он?» Тот мнется и говорит, что может и нет, конечно. Ну, раз «может и нет», значит, уже не катит.
В принципе, все идет по закону, судья формально все правильно делает, но ясно, что это подставное дело бывает иногда.
«Еще смешная история была с убийством»
Практически все дела у нас были по статьям 158 и 228. У нас был такой сейф с тремя ящиками — в одном были дела только по 228, в другом все дела, связанные с похищением имущества. Вот эти ящики всегда были забиты полностью. И был еще ящик с причинением телесного вреда — статьи 105, 111 и так далее, там совсем немного было дел.
При мне рассматривалось одно причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть; замечательное было дело. Там муж бил всю жизнь свою жену и наконец забил ее насмерть. Он не отрицал свою вину, но при этом как-то с особым пристрастием допрашивал всех свидетелей.
Они в квартире с его мамой, это древняя старушка, ещё до войны родилась. Разумеется, она ничего не слышит и не помнит, хотя в протоколе допроса написано, будто она слышала в соседней комнате звук падающего тела. Эти показания в суде старушка отрицала, пояснив, что следователь — это «очень странное явление». Ещё она говорила, что видела тело женщины, но не знала, живая она или нет. Судья переспросила, трогала ли она тело. «Нет, вы что, — ответила старушка, — я мертвых не трогаю».

Еще смешная история была с другим убийством — там мужик один решил знакомиться с геями в интернете, встречаться с ними, записывать на видео, а потом шантажировать. Но только у него сразу не задалось. С первой же жертвой он встретился в магазине женского белья, и вскоре гей уже стоял перед ним в исподнем, готовый на всё. Мужик такой психологической атаки не выдержал, связал гея и задушил его матрасом. Потом уехал, но страдал и писал друзьям грустные смски — распечатки есть в деле.
Убийства — это, конечно, не смешно ни разу, но, если всё это через себя пропускать, можно сойти с ума в первые же пару дней. А вообще разные подробности из уголовных дел после первого месяца работы перестают запоминаться. То есть, когда ты приходишь в первый раз и сразу попадаешь на аресты или принудительные меры медицинского характера, то читаешь материалы и думаешь, что вот, мужик с параноидной шизофренией убил свою мать гантелями, потому что решил, что она инопланетянка, как интересно люди живут. А потом проходит неделя, две недели, и, уже кажется, что по-другому и не бывает.
19 июля У следователя на рингтоне стоит «Я свободен» Шнура, а у судьи Kasabian.
23 июля Поговорила с приставом, он сказал, что у него шесть высших образований, потому что раньше он торговал дипломами. А на досуге он придумывает эстонские поговорки.
Привели таджика на арест, играю в увлекательную игру «запиши название кишлака со слуха». На вопрос, трудоустроен ли он, обвиняемый сказал что-то такое, что переводчик ответил, что сам не понимает, как это переводить.
24 июля
— Вы наркотики хранили для собственного употребления или просто так?
— (после паузы) Просто так. Купил, пусть полежат.
«Моей судье не очень-то хотелось их всех сажать»
Было одно дело по сбыту наркотиков, где подсудимый ходил и говорил, что он весь раскаялся-раскаялся и больше не будет. Он был под подпиской. Дело дошло до прений, и на прениях наша прокурор была занята в другом деле, вместо нее прислали молодого мальчика. Первый год прокурор, поэтому злой и всех хочет посадить — и вот он запросил этому подсудимому 12 лет.
А прокурор обычно с судьей перед процессом договаривается же, что вот, вы попросите ему четыре года, а я ему дам два, и все уйдут счастливые. Этот же прокурор попросил 12 лет, и потом подсудимый к нам месяц, по-моему, не ходил на свое последнее слово. Точнее он приходил в суд с опозданием на два часа, от него разило джином, и говорил, извините, я очень испугался, больше никогда не буду, простите. Мы говорили, приходи в следующий раз, все будет хорошо, мы тебя не будем сажать. Он соглашался и опять не приходил. Наконец он явился, мы ему дали 6 лет условно.
Причем этот подсудимый жил на одной лестничной клетке с секретарем из другого зала, и она рассказывала, что к нему до сих пор ходят наркоманы. Но поскольку это к делу не пришьешь… У судьи же нет задачи посадить человека на подольше. У нее как бы работа такая.
При этом, как я поняла, моей судье не очень-то хочется делать гадости людям и сажать их надолго. Она рассказывала, что ставит иногда эксперименты — и был год, когда она всем давала условные сроки, а на следующий год все эти люди к ней опять вернулись.
Одному парню мы вынесли условный срок, и буквально на четвертый день после вступления в силу приговора его опять по какой-то дикой подставе поймали и снова к нам привели. Пришлось его посадить.
Судья оглашает приговор: «Вещественное доказательство — мобильный телефон — вернуть осуждённому, но лучше пусть осуждённый его выкинет, потому что телефон слушает ФСКН».
28 июля Конвоир заснул и упал. Такой день.
Прокурор (воодушевлённо): «Ну чего вы такие унылые? У нас ведь только наркотики на сегодня остались!»
31 июля Подсудимая: «Я не могу доказать свою правду». Прокурор: «А меньше по платформам шляться надо».
1 августа А у нас тут прокурор, потягиваясь, говорит: «Так не хочется никого сажать, такое сегодня настроение несажучее».
Судья этого парня отчитывала: вот дали бы мы тебе реальный срок, ты бы сейчас сидел в тюрьме, но у тебя была бы одна судимость. А теперь будет две и сидеть дольше. У нее вообще были довольно отеческие отношения с подсудимыми, потому что на всех она обычно орала, а вот с подсудимыми больше шутила, разъясняла им что-то.
Там была вообще какая-то странная история, что его друг сказал, мол, пойди со мной купи наркотики, потом друг куда-то ушел, а пришел мент. В общем, если менты один раз тебя поймали, то уже не отпустят. Вообще дела по 228-й — это полный ужас, я там ни разу не видела хотя бы одного дела по наркотикам, которое выглядело бы более-менее естественно. Ты открываешь дело и вспоминаешь предыдущее ровно такое же. Что вот пришел наркоман и говорит: «Я наркоман, у меня есть барыга, давайте я все про него расскажу, мы устроим проверочную закупку, и вот он сядет». Как я понимаю, все происходит так, что менты ловят наркомана, спрашивают: «Где взял?» — «У Васи» — «Пойдем Васю сажать».
Причем, если они отказываются, то их, видимо, пытают и бьют. Мы продлевали арест оперативнику, который увез девушку и начал ее электрошоком пытать, требуя сдать барыгу. А та не сдавала.
К слову еще о том, что судья не хочет всех сажать… Была одна тетенька, которую наша судья судила уже не в первый раз. Месяцев пять она сидела в СИЗО, и перед приговором реально все собрались там и высчитывали, как бы так дать ей срок, чтобы она вышла на следующий день после вступления приговора в законную силу.
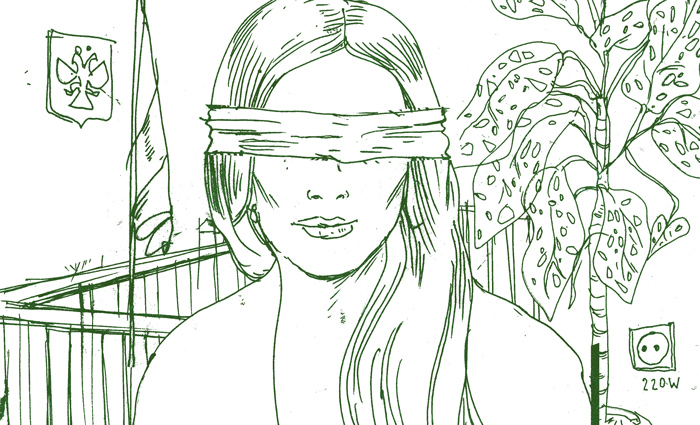
Считали-считали по календарю, но в итоге ошиблись. Там же обычно в приговоре пишут, что меру пресечения до вступления приговора в силу оставить без изменений — и вот получилось, что срок, который ей вынесли, уже закончился – а приговор в законную силу еще не вступил. Поэтому нам названивали из изолятора и говорили, что давайте мы ее отпустим. Судья написала специальную справку, мы ее по факсу отправили, и женщину эту выпустили в тот же день.
8 августа У нас тут в клетке плачет азербайджанец.
13 августа Вышла в коридор, там пристав проводит среди мигрантов публичную лекцию об изменениях в административном законодательстве за последний год. Пристав и мигранты почтительно обращаются друг к другу на «слушай, ты».
14 августа Пришла судья и натурально плачет (прямо слезами) от того, что я ухожу. Последний день обслуживаю Фемиду.
С другой стороны, количество дел по кражам даёт надежду на то, что, когда у меня что-нибудь украдут, я напишу заявление, и тут же приедут полицейские, которые уже всё раскрыли, и вот-вот допишут обвинительное. Хоть у тебя дорогую картину украдут, хоть банку сгущёнки. Про банку сгущёнки, кстати, правда, я такое видела в материалах одного дела. У парня было 13 эпизодов краж, один из которых — это, собственно, кража сгущёнки и печенья, которыми он, по словам прокурора, «распорядился по собственному усмотрению, употребив в пищу». Прямо так и написано. Приятно, когда полиция занята делом.
«Я веду протокол и рыдаю»
Наркоманов мне всегда было очень жалко. На самом деле, никто из тех, с кем я в суде говорила, не считает, что нужно сажать людей за такие вещи. Ладно еще если сбыт, но хранение… Наркоманы больные люди, и сидеть им в тюрьме не нужно. Было, конечно, мнение, что они посидят в тюрьме и не будут колоться какое-то время. Судья рассказывала, что она дала какому-то наркоману условный срок, он обкололся и умер. А в тюрьме он был бы жив.
Но вообще, естественно, очень жалко людей. Какое-то время меня не пробивало, а потом к нам привели на арест человека, которого мы арестовывали за мошенничество, и тут входит его сын пятилетний и начинает спрашивать, «почему папа за решеткой». Я веду протокол и рыдаю. Очень жалко было одного героинового наркомана, который весь такой пытается исправиться, пытается слезть, жена у него уже давно умерла от наркотиков, остался ребенок и глухая старая мамаша, а мы ему никак не могли дать меньше шести лет реального срока, потому что у него уже была условка.
Вот я вспоминаю про него и начинаю реветь. Когда мы в дежурство продляли парню арест за МДМА, мне тоже хотелось плакать.
На мне вообще это всё не самым лучшим образом отразилось, потому что теперь, что бы я ни делала, в своей голове я уже перевожу это на сухой ментовской язык и вижу материалы своего будущего дела. Особенно отчетливо материалы своего будущего дела я видела в один из понедельников. На выходных я уезжала в другой город к друзьям, и друзья мне там подарили колесо экстази, до которого так руки и не дошли. А поезд обратно у меня был такой, чтобы я сразу с него поехала на работу в суд. И вот я сижу в суде с этим колесом, набиваю протокол по 228-й, а сама уже мысленно заменяю фамилию подсудимого на свою. Не самый, в общем, был приятный рабочий день.
Без вас «Медиазону» не спасти
«Медиазона» в тяжелом положении — мы так и не восстановили довоенный уровень пожертвований. Сейчас наша цель — 7 500 подписок с иностранных карт. Сохранить «Медиазону» можете только вы, наши читатели.
Помочь Медиазоне